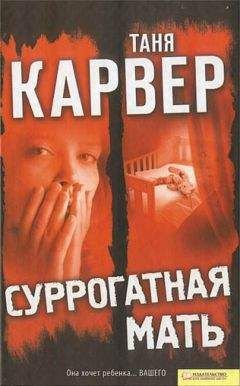Станислав Лем - Так говорил… Лем (Беседы со Станиславом Лемом)
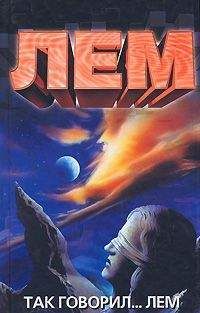
Обзор книги Станислав Лем - Так говорил… Лем (Беседы со Станиславом Лемом)
Станислав Лем
Так говорил… Лем (Беседы со Станиславом Лемом)
Впервые на русском языке - беседы со Станиславом Лемом, знаменитым писателем-фантастом и философом.
Часть 1
Так говорил… Лем[1]
О старых и новых беседах со Станиславом Лемом[2]
Первые беседы со Станиславом Лемом я вел с ноября 1981 года по август 1982 года, в атмосфере напряженного ожидания неминуемой в то время - по мнению писателя - политической катастрофы страны и в первые месяцы военного положения[3], которое для обоих собеседников было исключительно болезненным периодом. Беседы записывались на магнитофон, происходило это в доме писателя в Кракове, и внутренним контекстом бесед было жестокое усмирение свободолюбивых устремлений общества. Быть может, как это ни парадоксально, первое издание бесед могло возникнуть именно в то, а не в иное время, поскольку Лем - глубоко взволнованный происходящими событиями и выбитый из нормального ритма работы - именно в этих разговорах находил спасение и возможность дистанцироваться от агрессивной действительности.
Вскоре после этого, не в силах вынести ситуацию в Польше, Станислав Лем выехал за границу на несколько долгих лет, чтобы вернуться лишь после падения коммунизма. «Беседы» вышли в 1987 году в издательстве «Wydawnictwo literackie», но этому изданию годом раньше предшествовало немецкое - «Lem uber Lem: Gespache», опубликованное в «Insel-Suhrkamp Verlag». В результате цензурного вмешательства из польского издания была исключена глава «Черная безвыходность ситуации», а текст был изувечен серией мелких сокращений в тех фрагментах, которые касались тогдашних событий в стране.
В настоящем издании книге возвращена ее цельная форма, и в то же время она является принципиально новой, поскольку содержит около 180 страниц текста, до того нигде не публиковавшегося. Размышляя над формой переиздания, мы вместе со Станиславом Лемом пришли к выводу, что время, разделяющее два издания, требует многое актуализировать - с учетом совершенно иной политической ситуации в стране и в мире, динамичного прогресса в области науки и глубоких цивилизационных изменений, которые всегда составляли главный предмет интересов писателя. Дополнительные беседы, записанные в сентябре и декабре 2001 года, позволили добавить к ранним «Беседам со Станиславом Лемом» три новые главы («Милые времена», «Осмотр на месте», «Summa, или Panta rhei»). Глава «Неутраченное время» была дополнена фрагментами, посвященными львовским воспоминаниям «советского» периода, которые в свое время были удалены по требованию цензуры, возвращена также уже упоминавшаяся выше глава с размышлениями писателя о ситуации в Польше периода военного положения.
Таким образом, нынешнее издание «Бесед» занимает особое положение, поскольку их «исторические» фрагменты, которые во многом сохраняют удивительную актуальность, получают дополнения и комментарии в новых фрагментах текста, отражающих взгляды Лема на явления конца XX и начала XXI века. Писатель по-новому проводит «осмотр на месте» своего времени, анализируя важнейшие цивилизационные, научные, политические, культурные и общественные вопросы. С тем же интеллектуальным задором, что и во времена военного положения, он проверяет истинность собственных суждений двадцатилетней давности, формулирует новые концепции и гипотезы, при этом по-новому - хотя и не менее строго, чем раньше - «судит по справедливости наблюдаемый мир».
Первое издание наших бесед должно было называться «Так говорит… Лем», однако по неизвестным нам и теперь уже наверняка непонятным причинам вышло под названием «Беседы со Станиславом Лемом». В настоящем издании, стремясь к возвращению книге ее первоначальной формы, мы восстановили название, которое тогда - в эпоху великого перелома - казалось нам более занимательным, более значительным и адекватным содержанию книги.
Вопреки видимости, композиция книги не соответствует действительному ходу разговоров, а соответствует скорее звуковой медитации этого рафинированного интеллектуала, знаменитого писателя, автора многих памятных книг, которые стали букварем нескольких поколений поляков. Материал, собранный в этом издании, составляет лишь две трети текста, полученного при перенесении бесед на бумагу. Одну главу, более легкую в качественном отношении и не укладывающуюся в композицию книги, а также многие фрагменты, содержащие повторения, приложения, многочисленные отступления и случайные мотивы, пришлось оставить. Даже в настоящем, значительно расширенном, издании для них не нашлось места.
Станислав Лем настолько же благодарный, сколь и сложный собеседник. Его необузданный темперамент рассказчика и полемиста, а прежде всего невероятно обширный горизонт знания, проникающего в наиболее продвинутые плацдармы современной науки, часто даже уходящего за ее нынешние пределы, не позволили навязать ему в меру цельную и упорядоченную мысленную линию и удержать его в рамках традиционного разговора. Автор «Суммы технологии» неустанно ломал все согласованные априори тематические и проблемные оси, часто проводя - параллельно течению разговора, определяемого очередным вопросом - как бы диалог с самим собой, а одновременно с наиновейшими теориями и концепциями, рожденными естественно-научными и антропологическими рассуждениями нашей эпохи. Чтобы поддерживать по-настоящему партнерскую и компетентную научную дискуссию с Лемом, необходим уровень знаний, которым располагают лишь целые коллективы экспертов по нескольким научным дисциплинам. А такими знаниями обладает лишь один человек в стране - сам герой этой книги. Наверняка поэтому он так часто ставил сам себе - как бы над моей головой - вопросы, множил сомнения и искал удовлетворяющие его решения.
Состав этой книги - это результат перекомпоновки и упорядочивания магматической материи наших разговоров - полных отступлений, ассоциаций и свободных отклонений. Но никакое упорядочивание не сотрет специфики эффектного и живого стиля лемовского рассказа - хлещущего фейерверками анекдотов, шуток и парадоксов и в то же время затрагивающего самые трудные вопросы наших времен; полного красноречия, удали и мысленных скачков, но всегда остающегося в пределах научного мышления о мире.
«Так говорит… Лем» - это увлекательный и яркий рассказ о жизненной судьбе и художественном пути Станислава Лема, о его месте в польской и мировой литературе; он несет размышления о современной ситуации в науке и культуре, а также о месте человека в создаваемой им цивилизации; рассматривает основные политические и общественные вопросы, которые ставит перед нами современный - кипящий, как лава - мир; стремится проникнуть в тайны космоса и законов, которые им управляют; рассуждает о познавательных возможностях и об ограничениях человеческого существа; формулирует философский диагноз актуальным умственным и культурным достижениям человечества.
В какой степени проблемы, поставленные на этих страницах по-прежнему удивляющим нас обширностью своей эрудиции и интеллектуальной жизнеспособностью писателем-философом, позволяют нам добраться до сути знания о космосе, человеческой цивилизации или о душе жителя земной планеты в начале новой эры, судить самому читателю. Однако, читая эту книгу, следует помнить, что она является не только попыткой подвести итоги мыслительного пути писателя, но также дополнением и автокомментарием к его размышлениям, которые он уже почти полвека - попеременно в гротескной, реалистической, фантастической, эссеистической и философско-теоретической тональности - реализует в своих очередных произведениях. Книга «Так говорит… Лем», которую мы отдаем в ваши руки, является только тем, чем она может быть, - записью разговоров, проводившихся в надежде, что они помогут нам понять смысл того необычного приключения, каковым является существование каждого из нас, людей, и иных жителей земной планеты, а также историей всей Вселенной, вынырнувшей из ничего. Станислав Лем отвечает здесь только на те вопросы, на которые ответить мог, хотел и успел, так как иначе - как он отрешенно сказал во время одной из встреч, погруженный в полумрак и облака табачного дыма, между включенным магнитофоном, заполненными книгами полками и измученным собеседником - «мы могли бы так беседовать до конца света». Много еще существует вопросов и ответов, с которыми он в состоянии и хотел бы помериться силами, но время Мудреца - в отличие от времени Вселенной - не бесконечно.
Станислав Бересь,
Краков, 9 апреля 2002 года
Неутраченное время[4]
Станислав Бересь. Давайте сначала поговорим о вашей жизни, ранние эпизоды которой отражены в «Высоком замке». Более поздние эпизоды кроются, может быть, в судьбах Кароля Вилька из «Неутраченного времени» или Стефана Тшинецкого из «Больницы преображения». Возможно также, какие-то особенности вашего темперамента передались пилоту Пирксу или Трурлю. Однако никто, кроме вас, не в состоянии сложить все это в единое целое. Вы не против шагнуть вместе со мной в прошлое?